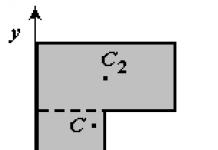Отношение Киевской Руси и Византии сложно охарактеризовать, одним словом. Киевские князья не редко воевали, с Византией, добиваясь выгодных торговых соглашений, перенимали какой-то технический и научный опыт. Вообщем, много чего было в отношениях Руси и Византии. Первые Киевские князья стремились с помощью военных походов добиться от Византии выгодных торговых соглашений. Военные походы, в отношениях с Византией, использовались как средство давления на соседа, и способ получить богатую добычу.
В 907 году, князь Олег ходил на Константинополь. Поход закончился подписанием мирного договора. Условия, его были таковы, что Византия выплатила Руси единовременную контрибуцию, и обязывалась платить ежегодную дань, а так же обеспечивать всем необходимым русских купцов. В 911 году, этот договор был подтвержден.
В 941 - 944гг. были неудачными для Руси в отношениях с Византией. Князь Игорь потерпел несколько поражений в Причерноморье. Киевская Русь заключила мир с Византией. Согласно этому договору, Византия признавала право Руси владеть землями в устье Днепра и на Тамани.
Много событий в отношениях Руси и Византии произошло при правлении князя Святослава. В течение 967 - 969 гг. Святослав добился присоединения к Руси нижнего Подунавья. Эти военные успехи Святослава , противоречили интересам Византии. В 970-971 гг. шла русско-византийская война. В 971 году был заключен мир, подтвердивший условия мирного договора Руси с Византией от 944 года.
В 1043 - 1046 года отношения Руси и Византии стали совсем холодными. Назрел конфликт, который начался с расправы над русскими купцами в Константинополе. Несмотря на военные неудачи Руси, в 1046 году был подписан мирный договор, который был скреплен династическим браком. Император Византии Константин Мономах, выдал свою дочь Анну за Всеволода - сына Ярослава Мудрого.
В 1116 году, Владимир Мономах отправил войска в Византию. Византия не хотела воевать с Русью, и преподнесла богатые дары и предложила династический брак. Поэтому война не состоялась.
Статьи по теме:

Почти столетие спустя после Льва Диакона войны Святослава описал другой авторитетный византийский историк - Иоанн Скилица, родившийся после 1040 г. и умерший, вероятно, в первом десятилетии XII в. Выходец из малоазиатской семьи, Скилица был магистром, проедром, эпархом, имел довольно высокие придворные титулы, словом, был видной фигурой в византийской общественной иерархии. Его основное историографическое произведение - «Обозрение историй» («Σύνοψις ίστριων») примыкает хронологически к «Хронографии» Феофана, охватывая события с 811 по 1057 г. В книгах, посвященных правлению императоров Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, рассказывается и о ходе русско-византийской войны Святослава.
Скилица сообщает о византийском посольстве во главе с вельможей Калокиром к «правителю Росии Сфендославу» с целью вынудить его на военные действия против болгар: так в изображении историка начались балканские походы Святослава. Однако вскоре Святослав стал действовать вместе с болгарами против Византии: в поход «росы и их архиг Сфендослав» собрали триста восемь тысяч воинов. Войско Святослава было многонациональным: у Аркадиополя «варвары,- по словам Скилицы,- разделились на три части: в первой были болгары и росы, турки же и патцинаки (т.е. печенеги. - Авт.) выступали отдельно» (Scyl. 288.14-19). Свидетельствует историк и о наличии в армии Святослава сильной конницы, вопреки мнению Льва Диакона.
Среди полководцев росов особо выделяется Сфангел, известный из сочинения Льва Диакона как Сфенкел: «Сфангел, который возглавлял все войско, находившееся в Преславе (он считался среди скифов вторым после Сфендослава), опасаясь, видимо, уже за судьбу города, запер ворота, обезопасив их засовами, взошел на стену и поражал нападающих ромеев различными стрелами и камнями» (Scyl. 296.51-56). И в следующей битве, под Доростолом (Дристрой) он показывает чудеса доблести, однако гибнет, и росы терпят после этого сокрушительное поражение, несмотря на еще большую, по сравнению с началом кампании, их численность: войско Святослава насчитывало уже к этому времени триста тридцать тысяч.
В решающей же битве войско росов возглавлял уже другой воевода, также известный из «Истории» Льва Диакона, - Икмор:
«Наступил июль месяц, и в двадцатый его день росы в большом числе вышли из города, напали на ромеев и стали сражаться. Ободрял их и побуждал к битве некий знаменитый среди скифов муж, по имени Икмор, который после гибели Сфангела пользовался у них наивеличайшим почетом и был уважаем всеми за одну свою доблесть, а не за знатность единокровных сородичей или в силу благорасположения» (Scyl. 304.85-91).
Скилица развивает тему подобия мира «варваров» - росов, или скифов миру зверей:
«Собравшись внутри стен, разбитые варвары провели наступившую ночь без сна и оплакивали павших в сражении дикими и повергающими в ужас воплями, так что слышавшим их казалось, что это звериный рев или вой, но не плач и рыдания людей» (Scyl. 301.88-92).
Иоанн Скилица излагает свою версию заключения русско-византийского мира 971 г., приписывая инициативу проведения переговоров, в отличие от Льва Диакона, императору Иоанну Цимисхию, первому обратившемуся к Святославу:
«Видя, что скифы сражаются с большим жаром, нежели ранее, император был удручен потерей времени и сожалел о ромеях, переносящих страдания мучительной войны; поэтому он задумал решить дело поединком. И вот он отправил к Сфендославу посольство, предлагая ему единоборство и говоря, что надлежит решить дело смертью одного мужа, не убивая и не истощая силы народов; кто из них победит, тот и будет властителем всего. Но тот не принял вызова и добавил издевательские слова, что он, мол, лучше врага понимает свою пользу, а если император не желает больше жить, то есть десятки тысяч других путей к смерти; пусть он и изберет, какой захочет. Ответив столь надменно, он с усиленным рвением готовился к бою...» (Scyl. 307.76-308.87).
Но ситуация изменилась не в пользу Святослава:
«Сфендослав, использовав все средства и во всем потерпев неудачу, не имея уже никакой надежды, склонился к заключению договора. Он отправил к императору послов, прося залогов верности и принятия в число союзников и друзей ромеев, чтобы ему со всеми своими дозволено было удалиться невредимыми домой, а скифам, если пожелают, - безопасно приходить по торговым делам. Император принял послов и согласился на все, о чем просили, произнеся известное изречение, что обыкновение ромеев состоит в том, чтобы побеждать неприятелей более благодеяниями, нежели оружием. После заключения договора Сфендослав попросил о беседе с императором; тот согласился, и оба, встретившись и поговорив, о чем им было нужно, расстались» (Scyl. 309.34-45).
Гибель Святослава на обратном пути из Византии на Русь представляется закономерным завершением конфликта.
Установившиеся мирные отношения между Византией и Русью сохранялись вплоть до начала 40-х годов XI в. На 1043 г. приходится последний поход Руси на Константинополь, описанный, помимо Скилицы, прежде всего очевидцем многих из изображенных им событий - византийским писателем, философом и политиком, эрудитом Михаилом Пселлом (1018 - после 1096/97 гг.). Его «Хронография», охватывая столетний период византийской истории (976-1075 гг.), как бы продолжает «Историю» Льва Диакона и завершается описанием правления Михаила VII. В изложении событий в начальных разделах «Хронографии» Пселл, вероятнее всего, пользовался источниками, которые были у него общими с Иоанном Скилицей, далее же идет повествование о событиях, непосредственным участником и свидетелем которых был сам Пселл.
Родившись в Константинополе в семье чиновника, Пселл получил прекрасное образование. При Михаиле V (1041-1042 гг.) он уже при дворе (императорский секретарь), а при Константине IX Мономахе (1042-1055 гг.) кривая его карьеры резко взметнулась вверх: он становится приближенным ученым-советником василевса, - эту роль Пселл отводит себе в «Хронографии» при описании правления почти всех последующих императоров. Вскоре он уже глава философской школы столичного «университета».
Сообразно с учеными устремлениями Пселла формировались и особенности его историзма. Так и в рассказе о последней русско-византийской войне он подчеркивает свое присутствие, причем рядом с императором, во время битвы.
«Неисчислимое, если так можно выразиться, количество росских кораблей прорвалось силой или ускользнуло от отражавших их на дальних подступах к столице судов и вошло в Пропонтиду (Мраморное море. - Авт.). Туча, неожиданно поднявшаяся с моря, затянула мглой царственный город...
Это варварское племя все время кипит злобой и ненавистью к Ромейской державе и, непрерывно придумывая то одно, то другое, ищет предлога для войны с нами. ...[Когда] власть перешла к безвестному Михаилу (Михаилу V, правившему пять месяцев в 1041-1042 гг. - Авт.), варвары снарядили против него войско; избрав морской путь, они нарубили где-то в глубине своей страны лес, вытесали челны, маленькие и покрупнее, проделав все втайне, собрали большой флот и готовы быстро двинуться на Михаила... Пока все это происходило и война только грозила нам, не дождавшись появления росов, распрощался с жизнью и этот царь, за ним умер, не успев как следует утвердиться во дворце, следующий, власть же досталась Константину (IX. - Авт.), и варвары, хотя и не могли ни в чем упрекнуть нового царя, пошли на него войной без всякого повода, чтобы только приготовления их не оказались напрасными. Такова была беспричинная причина их похода на самодержца.
Скрытно проникнув в Пропонтиду, они прежде всего предложили нам мир, если мы согласимся заплатить за него большой выкуп, назвали при этом и цену: по тысяче статеров на судно с условием, чтобы отсчитывались эти деньги не иначе, как на одном из кораблей... Когда послов не удостоили никакого ответа, варвары сплотились и снарядились к битве; они настолько уповали на свои силы, что рассчитывали захватить город со всеми его жителями...
Самодержец стянул в одно место остатки прежнего флота..., он торжественно возвестил варварам о морском сражении и с рассветом установил корабли в боевой порядок...
И не было среди нас человека, смотревшего на происходящее без сильного душевного беспокойства. Сам я, стоя около самодержца (он сидел на холме, покато спускавшемся к морю), издали наблюдал за событиями.
О причинах войны 1043 г. иначе рассказывает Иоанн Скилица, писавший чуть позже ученого историографа и ритора. Он повествует о какой-то ссоре между купцами на константинопольском рынке, в результате которой был убит знатный русский. В ответ на это князь Владимир Ярославич собрал союзное стотысячное войско и, отвергнув извинения прибывших послов от василевса Константина Мономаха, двинулся на Царьград (Scyl. 430.41-48). Другой византийский историк XI в. - Михаил Атталиат (1030/35-1085/1100 гг.) - указывает, что русское войско насчитывало четыреста военных судов (Mich. Attal. 20.11-13). Инициативу в начале переговоров уже у Константинополя Скилица также отдает византийцам: послы василевса, отправленные первыми к русским, узнали о требовании росов выплатить по три литры золота на каждого своего воина (Scyl. 431.68-70).
Поход Владимира Ярославича на Царьград в 1043 г. нашел отражение и в русских летописях, где предводителем войска назван Вышата: Владимир, согласно летописцу, также участвовал в походе, однако русский флот был разбит морским штормом (ПВЛ. 67). Выбравшиеся на берег воины во главе с Вышатой, по «Повести временных лет», были пленены византийцами, ослеплены и три года томились в неволе. Причина рассматриваемого военного конфликта определяется на основе совокупного рассмотрения всех, часто противоречащих друг другу источников (Литаврин. 1967. С. 71-86). Она кроется в изменении политического курса Константина IX Мономаха по отношению к варяго-русскому корпусу, в попытке его расформировать. Не случайно именно в этот момент уходит из Византии со своими норманнскими воинами Харальд Суровый Правитель (1015-1066 гг.) (позднее король Норвегии), находившийся на службе у византийских императоров с 1034 г. Константин, однако, его не отпускает, и Харальду приходится тайно бежать. В византийской литературе об этом, известном также по исландским сагам, эпизоде (см. часть V, гл. 5.2), а также о дальнейшей судьбе Харальда сообщает византийский автор наставительного трактата, не совсем точно называвшегося в науке «Стратегиконом», Кекавмен, живший во второй половине XI в.:
«Аральт при Мономахе захотел, отпросясь, уйти в свою страну. Но не получил позволения - выход перед ним оказался запертым. Все же он тайно ушел и воцарился в своей стране вместо брата Юлава» (Кекавмен. С. 284-285).
Обострение отношений между варяго-русскими наемниками и императором отразилось и на отношении византийцев к Руси в целом: убийство в Константинополе «знатного скифа» - русского купца и стало, по словам как Скилицы, так и хрониста XII в. Иоанна Зонары (Zon. 631), предлогом войны. Вряд ли случайным совпадением может быть произошедшее в это же время, судя по актам Русского монастыря на Афоне, разорение пристани и складов Русика, как называлась эта обитель (Акты. № 3).
Однако вскоре после конфликта отношения Византии и Руси были восстановлены, а заключенный в 1046 г. мир был утвержден браком Всеволода Ярославича с дочерью императора, скорее всего, Марией.
военачальники:
Катакалон Кекавмен
Василий Феодорокан
воеводы:
Вышата
Иван Творимирич
Русско-византийская война 1043 года - неудачный морской поход в 1043 году русских войск под началом сына киевского князя Ярослава , Владимира Ярославича , на Константинополь .
Русский флот был разгромлен, до 6 тысяч воинов были уничтожены или попали в плен. Однако к был заключен мир, скреплённый браком князя Всеволода Ярославича , сына киевского великого князя , и дочери византийского императора Константина Мономаха .
Предыстория
Напряжённость в отношении между двумя государствами начинает проявляться после воцарения в июне императора Константина Мономаха . Начало правления Константина отмечено мятежом войск под началом Георгия Маниака в Италии, известно, что под его началом сражались и русско-варяжские отряды. По версии академика Г.Г. Литаврина Константин распускает военные отряды, пользовавшиеся особым расположением прежнего императора Михаила V , возможно пытается расформировать варяжско-русский корпус. Проявлением этого стало желание известного викинга Харальда Сурового , представителя норвежской правящей династии, вернуться на родину. Однако Константин не только отказывает, но согласно сагам бросает Харальда в тюрьму. Тому удаётся бежать на родину через Русь, где княжил дружественный ему Ярослав .
Возможно с этими же событиями связано разорение пристани и складов русского монастыря на Афоне.
Поводом к войне, по сообщению Скилицы , стало убийство на рынке Константинополя знатного русского купца («знатного скифа »). Император Константин послал послов с извинениями, но их не приняли.
«И варвары, хотя и не могли ни в чем упрекнуть нового царя, пошли на него войной без всякого повода, чтобы только приготовления их не оказались напрасными.»
Ход военных действий
Константин узнал о предстоящем походе уже весной и принял меры: выслал из Константинополя русских наёмников и купцов, а стратигу фемы Паристрион (болг.) русск. Катакалону Кекавмену поручил охранять западные берега Чёрного моря. В июне 1043 года флот князя Владимира прошёл Босфор и стал в одной из бухт Пропонтиды , недалеко от Константинополя. По свидетельству Пселла русские вступили в переговоры, запросив по 1000 монет на корабль. По словам Скилицы император Константин Мономах первым начал переговоры, которые ни к чему не привели, так как русские запросили по 3 литры (почти 1 кг) золота на воина.
Сражение у маяка Искресту
Император собрал в одной гавани все военные корабли, оставшиеся после пожара 1040 года , и грузовые суда, посадив на них воинов и вооружив камнемётами и «греческим огнём» . Русский флот выстроился в линию напротив греческого, большую часть дня стороны бездействовали. Император наблюдал за ходом действий с высокого холма с берега. По его команде бой начал Василий Феодорокан с 3 триерами (с 2 по словам Пселла, лично наблюдавшего ход сражения). Русские ладьи окружили большие корабли византийцев: воины пытались продырявить корпуса триер копьями, греки метали в них копья и камни.
Когда византийцы применили «греческий огонь », русские стали спасаться бегством. По словам Скилицы Василий Феодорокан сжег семь русских судов и три потопил вместе с командой. Из гавани выступил основной флот византийцев . Ладьи отступили, не принимая боя. В этот момент разразилась буря, последствия которой описал Михаил Пселл :
«Одни корабли вздыбившиеся волны накрыли сразу, другие же долго еще волокли по морю и потом бросили на скалы и на крутой берег; за некоторыми из них пустились в погоню наши триеры, одни челны они пустили под воду вместе с командой, а другие воины с триер продырявили и полузатопленными доставили к ближайшему берегу. И устроили тогда варварам истинное кровопускание, казалось, будто излившийся из рек поток крови окрасил море.»
С бури начинает рассказ о неудачном походе «Повесть временных лет », умалчивая о произошедшем морском сражении. Восточный ветер выкинул на берег до 6 тысяч воинов, потерпел крушение и княжеский корабль. Князя Владимира принял к себе воевода Иван Творимирич , они с дружиной решили пробиваться домой морским путём. Воевода Вышата наоборот, высадился на берег к воинам со словами: «Если буду жив, то с ними, если погибну, то с дружиной »
Император послал в погоню за русскими 24 триеры . В одной из бухт Владимир атаковал преследователей и разбил их, возможно во время береговой стоянки, после чего благополучно вернулся в Киев. Другая часть русов, возвращавшихся на Русь пешком вдоль побережья Чёрного моря, была перехвачена около Варны войсками стратига Катакалона Кекавмена. Воевода Вышата вместе с 800 воинами попал в плен. Почти все пленники были ослеплены.
Заключение мира
Мир был заключён через три года, согласно ПВЛ , то есть в 1046 году . Воевода Вышата был отпущен и вернулся в Киев, ущерб монастырю в Афоне возмещён. Заинтересованность Византии в мире была вызвана новой угрозой её северным границам. С конца 1045 года печенеги стали совершать набеги на болгарские владения империи.
Русь снова становилась союзником Византии, уже в 1047 году русские отряды сражались в составе её армии против мятежника Льва Торника. Более того, вскоре союз был скреплён браком князя Всеволода Ярославича с византийской царевной, которую русские летописи называют дочерью императора Константина Мономаха (см. Мономахиня). Брак значительно повысил престиж державы Рюриковичей: после этого уже не великий князь Ярослав безуспешно пытается сосватать своих дочерей за европейских монархов, а сам принимает брачные посольства.
Версия о продолжении войны в Крыму
Известный историк древнерусского искусства В. Г. Брюсова предположила, что было продолжение кампании в 1044 году , в ходе которой русскими был взят греческий Херсонес (Корсунь), и что именно это и заставило империю пойти на уступки. В пользу своей гипотезы Брюсова приводит следующие аргументы:
- По сообщению епископа Шалонского Роже, побывавшего в Киеве в , Ярослав рассказал ему, что он лично перенёс мощи св. Климента и Фива из Херсонеса в свою столицу. Мощи могли быть взяты только в качестве военного трофея.
Данное свидетельство противоречит сообщению ПВЛ о захвате этих мощей в Херсонесе князем Владимиром Крестителем в . Нахождение мощей Климента в Киеве подтвердил хронист Титмар Мерзебургский , умерший в .
- В Киеве при Ярославе появляется множество предметов круга памятников искусства Причерноморья. В Новгороде до наших дней сохранилось большое количество «Корсунских древностей»: врата, украшающие вход в Рождественский придел Софийского собора и орнаментованные мотивом процветшего креста (характерен для Херсонесского искусства), иконы Корсунской Богоматери , «Пётр и Павел », «Спас-Мануила ». Все они византийского происхождения и относятся в XI веку . В XVI -XVII вв. в Новгороде существовала легенда, что Корсунские древности привезены новгородцами в качестве трофеев из Херсонеса. Софийский собор был заложен в , что связывается с победой в и для размещения добытых церковных ценностей.
Так называемые «Корсунские врата» изготовлены в Магдебурге в и предназначались для собора Успения Приснодевы Марии в Плоцке . В.В. Мавродин считает, что ворота были взяты новгородцами в походе 1187 года на шведскую Сигтуну. А. Поппе предположил, что «Предания о корсунских древностях» должны были укрепить позицию новгородских владык в русской церковной иерархии.
- В Софийской летописи, Новгородской IV и близких к ним рассказ о походе 1043 начинается словами «паки» («снова») или присутствует две одинаковых записи о нём. Брюсова допускает, что «снова» относилось к повторному походу 1044 года, упоминание о котором было убрано переписчиком.
- По мнению Брюсовой невозможно было заключить в 1046 году мирный договор с Византией и затем династический брак с дочерью Константина Мономаха без решительной военной победы. Отсутствие каких-либо упоминаний в источниках о 2-м походе Брюсова объясняет конфликтом княжеских интересов, будто бы другие князья были не заинтересованы в упоминании победы Владимира Ярославича над греками. Также Брюсова предполагает смешивание в сознании летописцев личности Владимира Ярославича с более известными князьями Владимиром Крестителем , совершившим поход в на Корсунь, и Владимиром Мономахом
Примечания
Литература
- Брюсова В. Г. Русско-византийские отношения середины XI века. // Вопросы истории, 1973, № 3, стр. 51-62.
- Литаврин Г. Г. Русско-Византийские отношения в XI-XII вв. , по изданию: История Византии: В 3 т./М.: Наука, 1967, Т. 2. Глава 15: С. 347-353
Тексты первоисточников
- Повесть временных лет в переводе Д. С. Лихачева (см. 1043 год).
- Михаил Пселл. Хронография / Перевод и прим. Любарского Я. Н. - М.: Наука, 1978.
Отдохнуть в Киеве от походов на хазар , как явилось к нему посольство от византийского императора Никифора Фоки – просить у него помощи против дунайских болгар: 30 пудов золота обещали ему за помощь.
Как было не принять ему предложение византийцев: война да еще такая плата, не считая добычи. С войском тысяч в шестьдесят в 968 г. русские ладьи явились на Дунае. Напрасно болгарское ополчение пыталось помешать русским высадиться на берег. Болгары были разбиты. Множество городов их было взято и разграблено, в том числе и Малая Преслава, или Переяславец, и сильно укрепленный Доростол. Святославу сильно полюбилась Болгария: земля богатая, всего вдоволь, положение выгодное, с Византией и другими богатыми соседними странами большая торговля. Не хотел он уходить отсюда; а Русь оставалась без князя.
Памятник князю Святославу в селе Старые Петровцы, Киевская область
В Киеве же осталась мать Святослава, Ольга , совсем уже престарелая, с малолетними внуками; недалеко от русской столицы расстилалась степь, а по ней рыскали орды кочевников-печенегов ; они только и выжидали удобного случая напасть врасплох и пограбить. Узнав о том, что войско Святослава ушло к границам Византии, нахлынули орды их на Русь. Заперлась Ольга с внуками в городе.
Толпы печенегов расположились станом вокруг Киева: ни в город нельзя было никому пройти, ни из города. Плохо пришлось киевлянам: мало у них уже оставалось съестных припасов, помощи ждать им было неоткуда – приходилось сдаваться. На противоположном берегу Днепра собрался небольшой отряд ратных людей под начальством воеводы Претича. Мог бы он попытаться помочь киевлянам и спасти Ольгу с внуками от плена, да, на беду, он не знал, что киевлянам приходится так плохо; он думал, что они еще смогут продержаться до прихода Святослава. Стали киевляне думать, как бы известить Претича о том, что им приходится сдаваться, если никто не поможет им. Нашелся между ними, как говорит предание, отважный юноша, который взялся уведомить воеводу о положении киевлян. Незаметно для врагов вышел он из города с уздечкой в руке, прошел между печенегами, спрашивая всех встречных, не видали ли его лошади (он говорил по-печенежски, и печенеги приняли его за одного из своих). Добравшись до берега Днепра, юноша сбросил с себя одежду, кинулся в реку и быстро поплыл…. Тут только спохватились печенеги: засвистели стрелы, но он был уже далеко – попасть в него было трудно. Русские с той стороны Днепра завидели пловца и поспешили навстречу ему в лодке.

– Если не подступите завтра к городу, – сказал он, – то киевляне хотят сдаться печенегам.
– Подступим завтра же, постараемся спасти княгиню и княжичей, – сказал Претич дружине, – перевезем их на эту сторону. Если не сделаем этого, то погубит нас всех Святослав.
Все согласились. На другой день на рассвете раздались на Днепре громкие звуки труб, показались лодки с воинами. Киевляне громким, радостным криком приветствовали их со стен. Смелая попытка Претича удалась: печенеги испугались – им представилось, что сам Святослав с войском идет от границ Византии на выручку Киева. Они поспешно отошли от города. Того только и нужно было Претичу.
Ольга с внуками успела сесть в лодку и переехать на другой берег. Печенежский князь вступил с русскими в переговоры.
– Кто это пришел? – спросил он у Претича.
– Люди с той стороны, – отвечал тот.
– А ты не князь ли? – спросил печенег.
– Я княжий муж, – сказал Претич, – и пришел с передовым отрядом, а за мною идет князь Святослав с большим войском.
Хитрость удалась. Печенежский князь вовсе не расположен был встречаться с самим Святославом и предложил прекратить войну и заключить мир. Претич, конечно, согласился. Оба подали друг другу руки и обменялись подарками: печенежский князь подарил русскому воеводе коня, саблю и стрелы, а Претич дал ему броню, щит и меч.
Киевляне, говорит предание, послали сказать Святославу: «Ты, князь, чужой земли ищешь и блюдешь ее, а от своей отрекся: нас вместе с твоею матерью и детьми чуть не взяли печенеги. Если ты не защитишь, то они возьмут нас. Неужели тебе не жаль ни твоей отчины, ни старухи-матери, ни детей твоих?»
Святослав с дружиной поспешил от византийских границ в Киев, собрал сильное войско и прогнал печенегов далеко в степь. Недолго пожил он с семьею, не сиделось ему дома.
– Нелюбо мне в Киеве, – говорил он матери и боярам, – хочу жить в Переяславце-на-Дунае. Там средина земли моей; туда сходится все благое с разных сторон: из Греции – золото, ткани, вина и разные плоды; из земли чехов и венгров – серебро и кони; из Руси – меха, мед, воск и рыба.

Византийская конница X века, побеждающая болгар. Старинная миниатюра
Воины Святослава оборонялись с необычайным мужеством и стойкостью. Они не укрывались постоянно за городскими стенами, но очень часто выходили из города и сражались с византийцами в открытом поле. Русская кольчужная рать обыкновенно выступала из города и, закрывшись своими длинными щитами, стеною шла на неприятеля. Ничто не могло устоять против могучего напора этого железного строя, но Цимисхий недаром слыл искусным военным вождем: он и другие византийские полководцы умели внезапными нападениями с боков и с тыла, стремительными налетами отрядов конницы расстраивать сомкнутый строй воинов Святослава и принуждали их отступать. Руссы в этой ужасной войне не обращались в бегство, но, закинув за спину свои огромные щиты, медленно шли к городу. Ночью иной раз выходили в поле, подбирали тела убитых товарищей и сжигали их на кострах; при этом закалывали в жертву своим богам многих пленников, убивали, по своему обычаю, и женщин (вероятно, жен более знатных покойников). Кроме того, приносили в жертву младенцев и петухов, которых погружали в Дунай. Погребальные обряды они сопровождали дикими воплями и плачем в честь покойников. Есть известие, что византийцы в числе убитых русских воинов находили женщин, они в мужской одежде шли за своими мужьями в сражения.

Тризна русских дружинников после битвы под Доростолом. Картина Г. Семирадского, 1884
Греки установили метательные машины, кидали тяжелые камни в город и убивали многих осажденных. Воины Святослава в свою очередь делали по ночам вылазки, старались уничтожить эти машины и добыть в окрестных селах съестные припасы: в них уже чувствовался недостаток. Иной раз вылазки эти были удачные и производили в византийском стане большой переполох.
Два месяца с лишком длилась осада Доростола. Многих храбрых дружинников не стало; погибли в войне с Византией и лучшие русские воеводы. Приуныли храбрые воины Святослава. Созвал он на совет своих воевод и старших дружинников и спросил, как быть, что делать. Кто советовал в глухую ночь, в удобную пору, спасаться бегством, кто думал, что лучше заключить мир с византийским императором. Но не по душе Святославу были такие советы: жизнь, спасенная бегством или купленная ценою унизительного мира, не привлекала его. Его мнение было – или победить, или погибнуть славною смертью в бою.
Опять начались отчаянные военные схватки. В одной из них греческий витязь, обладавший необыкновенною силою, заметил в толпе русских воинов Святослава, ринулся к нему, мечом своим проложил себе путь к русскому князю и нанес ему страшный удар в плечо. Святослав упал – так силен был удар. Но щит и крепкая кольчуга спасли его. Византийский витязь погиб под ударами русских. Смерть этого богатыря поразила греческих воинов страхом. Руссы стали теснить их. Плохо приходилось грекам. Император увидел опасность, велел ударить в бубны и трубить в трубы, а сам с копьем в руках во главе своего отряда «бессмертных» (так назывался отряд лучших воинов в греческом войске) понесся на русских. Бой загорелся с прежним ожесточением. Византийская рать, воодушевленная своим вождем, сильно напирала на руссов. На беду для них, вдруг поднялась сильная буря, ветер дул им прямо в лицо, облака пыли неслись им в глаза. Между тем один отряд греков зашел в тыл русскому войску и грозил отрезать его от города – пришлось поспешно отступить. Сам Святослав, израненный, истекающий кровью, едва спасся от плена…
Дольше сопротивляться было нельзя. В Доростоле настал голод. Приходилось мириться. Цимисхию тоже было нелегко продолжать войну со Святославом: греки были изнурены продолжительными битвами и сильно желали мира. Русский князь обязался выдать всех пленных греков, сдать Доростол и уйти из Болгарии; обязывался он и вперед не начинать войны с Византией и даже мешать нападению других племен на Грецию. По обычаю, руссы должны были клясться Перуном и Велесом , что они будут точно соблюдать договор.
Святослав по окончании войны пожелал повидаться с императором. По словам одного византийского писателя (Льва Диакона), свиделись они на берегу Дуная. Цимисхий, верхом на богато убранном коне, в раззолоченных доспехах, окруженный блестящей свитой, подъехал к берегу Дуная, а Святослав подплыл на простой ладье, сам управляя веслом наравне с другими гребцами.

Встреча князя Святослава с императором Иоанном Цимисхием на берегу Дуная. Картина К. Лебедева, ок. 1880
С любопытством смотрели греки на страшного для них Святослава. От них узнаем мы о его наружности. Это был человек среднего роста, коренастый, широкоплечий. Голова у него была бритая, с темени свешивался пук волос (означавший благородство), в одном ухе висела золотая серьга, украшенная двумя жемчужинами и рубином посредине. Лицо Святослава было мрачно. Сурово глядели его голубые глаза из-под густых бровей, нос был несколько плоский, борода бритая, усы длинные. Одежда его поразила византийцев своей простотой – белая рубаха его отличалась от одежды других его товарищей только большей чистотой. Свидание его с императором продолжалось недолго.
Пока Святослав воевал против Византии в Болгарии, орды диких печенегов опустошали его области и чуть не овладели Киевом. Святослав с остатком своего войска и дружиною зимовал у Днепровского устья. С наступлением весны поплыли они вверх по Днепру. У порогов подстерегали русских печенеги ; говорят, греки известили их, что в отряде Святослава мало воинов, и справиться с ним будет нетрудно. В самом опасном месте, где надо было обходить пороги по берегу, русский отряд был окружен со всех сторон печенегами. Завязалась схватка, и Святослав погиб в бою со всеми дружинниками: только нескольким воинам удалось уйти в Киев (972).
Предание говорит, что печенежский вождь Куря велел из черепа Святослава сделать себе чашу и на пирах пил пиво из нее.
Правление Ярослава I. Война с Византией
Король Болеслав Храбрый после успешной войны с Русью занял червенские города. После его смерти Ярослав изгнал поляков из города Белза на Волыни, а в 1031 г. призвал на помощь князя Мстислава и отвоевал Червень. Русь окончательно закрепила за собой Волынскую землю. Киевские дружины совершали походы против ятвягов, "литвы" и эстов. На землях эстов русские основали город Юрьев (Тарту).
Ярослав продолжал укреплять южные границы Руси. При князе Владимире оборонительные рубежи проходили по реке Стугне почти у самых стен Киева. Ярослав перенес укрепленную линию на реку Рось в 100-120 км к югу от Киева. Среди городков, построенных на Роси, самым крупным был Корсунь. В новых городках были поселены пленные поляки, приведенные из червенских городов с Волыни.
Заняв киевский престол, Ярослав оставил в Новгороде посадника Константина Добрынича, который доводился ему дядей. Константин управлял городом много лет, пока не был сослан в Муром. Там он был убит по приказу Ярослава. В 1036 г. киевский князь ездил в Новгород, чтобы посадить на новгородское княжество сына Владимира. Во время этой поездки, сообщает летопись, Ярослав "людьм (новгородцам.- Р. С.) написа грамоту, рек: по сей грамоте дадите дань".
В то время, как Ярослав улаживал дело с данью в Новгороде, Киев подвергся нападению печенежской орды. Наспех собрав новгородское ополчение и призвав варягов, князь поспешил вернуться в столицу. В сражении у стен Киева русские одержали верх над печенегами. Покинув кочевья в Причерноморье, печенежские отряды потянулись за Дунай. На время угроза Киеву со стороны степи была устранена.
При Ярославе русские дружины воевали в Польше и Византии. В 1041-1047 гг. Ярослав совершил три похода в Польшу и помог королю Казимиру овладеть Мазовией. В 1043 г. он разорвал мир с империей и отправил войско в поход на Константинополь. Инициатором войны был конунг Харальд, в свое время прибывший на Русь из Норвегии и несколько лет служивший сначала в Новгороде, а затем в Киеве. Покинув Русь, Харальд отправился в Византию и поступил в императорскую дворцовую стражу. В 1042 г. он участвовал в дворцовом перевороте, в результате которого император был свергнут и ослеплен. Спасаясь от суда, конунг и его варяги принуждены были бежать из Константинополя и укрылись в Киеве. Вторично поступив на службу к Ярославу, Харальд убедил его предпринять поход на Царьград. Военная мощь империи была подорвана вторжениями турок и внутренними усобицами, и Харальд полагал, что Константинополь не устоит против натиска варягов и русских. Наемные отряды варягов несли службу в константинопольском гарнизоне, и нападавшие могли рассчитывать на их пособничество.
Ярославу приходилось считаться с тем, что митрополит-грек не одобрял войны с Византией и у Руси не было никаких серьезных поводов для такой войны. Помимо того, киевский князь был всецело поглощен польскими делами. Князь выдал сестру замуж за польского короля и во исполнение договора с ним как раз в 1043 г. послал войско в Мазовию.
Уклонившись от личного участия в войне с греками, Ярослав поручил дело сыну Владимиру, княжившему в Новгороде. Историки, анализировавшие кампанию 1043 г. , не заметили ее главной отличительной особенности: война велась почти исключительно силами Новгородского княжества без участия киевского князя и его войска. Вторжение в Византию возглавил князь Владимир Новгородский. При нем находились двое опытных воевод: новгородец Вышата и Иван Творимирич из Киева. Вышата занимал более высокое положение, чем Иван Творимирич, числившийся воеводой Ярослава. Во-первых, дед Вышаты Константин и его отец Остромир служили новгородскими посадниками. Эта семья была тесно связана с новгородской "тысячей", составившей ядро войска Владимира. Посылая сына Владимира "на греки", Ярослав "воеводство" поручи Вышате", как подчеркивал летописец.
Ярослав боялся отпадения Новгорода. Отправив сына с новгородцами в рискованный и длительный поход, киевский князь нашел способ утихомирить новгородцев и упрочить свою власть на крупнейшей из русских "волостей".
Владимир с войском прошел по великому пути "из варяг в греки", преодолел пороги на Днепре и морем достиг устья Дуная. Русские помнили, как князь Олег, а за ним князь Игорь заключили мир с Византией и получили дань, фактически не вступая в войну с греками. Их план состоял в том, чтобы создать угрозу границам империи и, получив дань, повернуть вспять. Русские воеводы предложили этот план Владимиру, но молодой князь последовал совету варягов. Воинственный Харальд помышлял о захвате Царьграда. Как записал киевский летописец, на Дунае "реша Русь Володимеру: "станем съде на поле", а варяги реша: "поидем в лодиаях под город"; и послуша Володимер варяг".
Пожар в гавани, случившийся ранее уничтожил большую часть византийского флота. Император Константин Мономах приказал спешно вооружить старые грузовые суда. Грекам не удалось задержать русский флот на дальних подступах к Константинополю. Конунг Харальд и его новгородские союзники прорвались в Пропонтиду. Начавшиеся мирные переговоры не дали результатов. По словам очевидцев, русские "положили на волю греков - заключить мир", но при этом потребовали дань - по 3 фунта золота на воина, по другим сведениям - по 1000 стариров на ладью или 2800 фунтов золота на 100 ладей. Демарш привел бы к успеху, если бы русские потребовали умеренную плату за мир. Но цена оказалась слишком высокой, и император оставил обращение новгородского князя без ответа. Тогда варяги настояли на открытии военных действий. Нападавшие выстроили суда в боевой порядок, но медлили с атакой. Так прошла большая часть дня. Наконец по сигналу императора три больших корабля (галеры с тремя рядами гребцов) медленно выдвинулись вперед. Они тотчас были окружены ладьями, экипажи которых пытались пробить борта галер с помощью бревен. Византийцы сверху метали в них камни и копья, а затем обрушили "греческий огонь". Обладая лучшим оружием греки потопили 3 ладьи и сожгли семь, после чего русские отступили. Подул ветер, и на море усилилось волнение. Опытные мореходы норманны понесли наименьшие потери, тогда как новгородские кормчие поспешили к берегу, чтобы укрыться от бури. Волны переворачивали их челны и разбивали о скалы. Много людей утонуло, до тысячи воинов спаслось на берегу. (Сведения о 6000 воинов, собравшихся на берегу, преувеличены). Никто "от дружины княжи" не желал сойти на берег. Но поскольку среди воинов преобладали новгородцы, командование над ними принял Вышата, распорядившийся покинуть ладьи. Пешее войско добралось по суше до Дуная, но в районе Варны греки окружили его и принудили к сдаче. По византийским источникам, в плен попало 800 воинов. Варяги Харальда понесли наказание за предательство во время службы в Константинополе. Одним из них выкололи глаза, другим отрубили руку. Кара, по-видимому, не коснулась новгородцев. Воевода Вышата провел несколько лет в плену, а затем был отпущен на родину.
По возвращении из похода Харальд женился на дочери Ярослава, после чего отправился в Скандинавию, где занял норвежский трон. Конунг приобрел известность как воин и скальд. Его боевая песнь вдохновляла воинов перед битвой. После неудачной попытки завоевать Византийскую империю Харальд Суровый высадился в Англии, чтобы завоевать Английское королевство. Битва с англосаксами закончилась неудачей. Харальд был убит.
Поражение Харальда Сурового и его русских союзников у стен Константинополя показала, что "эпоха викингов" в Восточной Европе кончилась. Наибольший ущерб экспедиция нанесла Новгороду. Военные силы Новгорода были подорваны, зависимость новгородцев от Киева упрочена. В 1046 г. Ярослав заключил новый договор с Византией. Договор был скреплен браком сына Ярослава Всеволода с византийской царевной из семьи императора Константина Мономаха.